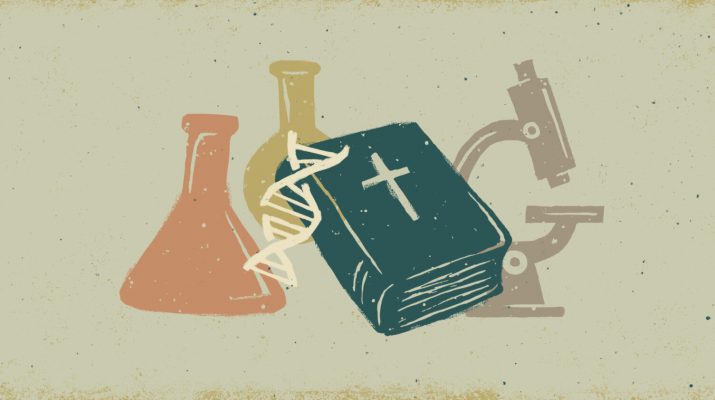Пределы научного знания и опасность сциентизма
Дж. П. Морленд
Сциентизм – это мировоззрение, в основе которого лежит убеждённость, что наука способна объяснить практически всё. Если не существует достоверного научного объяснения какого-либо события или явления, то такие события и явления не являются объектами нашего знания.
Однако на самом деле существует множество вещей, которые наука не может объяснить. И проблема не в том, что нам не хватает для этого достаточного количества данных, – а в том, что эти вещи в принципе неподвластны научному объяснению. При этом мы абсолютно убеждены в истинности этих вещей. При этом, что особенно интересно, теизм вполне в состоянии их объяснить.
Давайте рассмотрим пять примеров того, что поддаётся объяснению с позиций теизма, но не может быть объяснено наукой.
1. Наука не может объяснить происхождение Вселенной
Существует, по крайней мере, три причины, по которым происхождение мироздания в принципе не поддаётся научному объяснению.
Во-первых, объясняя тот или иной аспект вселенной, наука апеллирует к другому её аспекту или нескольким аспектам. Например, мы объясняем образование воды, ссылаясь на химические свойства водорода и кислорода, а также апеллируя к некоему событию, в результате которого произошло высвобождение энергии, заставившее эти элементы соединиться в соответствии с указанными химическими свойствами. Другой пример: вымирание динозавров мы объясняем, апеллируя к различным катастрофическим событиям. То есть, для любого научного объяснения категорически необходимо, чтобы вселенная уже существовала такой, какова она есть, чтобы существовали начальные условия, законы природы и т. д., на которые мы могли бы сослаться в своём объяснении.
Ещё раз: реальность во всей её полноте (т. е. вселенная) должна уже существовать, прежде чем научное объяснение относительно любой части этой реальности (вселенной) сможет сдвинуться с мертвой точки.
Во-вторых, научные объяснения связывают, соединяют различные во времени состояния какого-либо объекта (то есть изменения его состояния), используя для этого соответствующих законов природы. Любые события, в результате которых одно состояние сменяется другим – дрейф континентов, образование Солнечной системы, развитие жизни, радиоактивный распад урана с его превращение в свинец, – объясняются строго заданными закономерностями, связывающие различные состояния между собой. Так, постоянное давление газа при его постоянном объёме и неизменных внешних условиях объясняется тем, что он сохраняет свою температуру в соответствии с законом идеального газа.
Таким образом, научное объяснение предполагает наличие временного промежутка (ведь события происходят во времени, идея «вневременного события» не имеет никакого научного смысла) и реальность, как минимум, двух состояний – изначального и конечного. Из этого вытекают, как минимум, два следствия.
(1) Наука принципиально не в состоянии объяснить самое первое состояния (только что возникшая вселенная), потому что для этого ей пришлось бы обратиться к некоему предшествующему состоянию и обозначить закон, который эти два состояния связывал бы. Однако если бы такое предшествующее состояние имело бы место, то мы бы имели дело с чем угодно, но не с возникновением вселенной. Нам пришлось бы постулировать всё новые и новые предшествующие состояния, попав в логическую ловушку порочного регресса.
(2) Поскольку научные объяснения неизбежно включают в себя время, на протяжении которого тот или иной закон природы осуществляет своё действие, наука оказывается категорически не способной объяснить происхождения самого времени. Эта категория уже должна существовать и действовать, чтобы можно было формулировать любые научные объяснения.
В-третьих, возникновение – это не процесс, а мгновенное явление. Давайте, например, рассмотрим процесс того, как поезд заезжает в длинный тоннель. Сначала поезд полностью находится за пределами тоннеля, затем заходит в него на 20 %, затем на 30 % – и так далее, пока не окажется в тоннеле на 100 %.
Однако возникновение из ничего – это не процесс. Нельзя сказать, что рассматриваемая сущность сначала на 100 % не существовала, затем стала не существовать на 90 % – вплоть до того, что она станет на 100 % существующей. Обратите внимание: речь не о количественных или пространственных измерениях – не о том, что «10 % некоей сущности полностью существует, а 90% полностью не существует». Подразумевается, что в результате «процесса возникновения», если бы такой был возможен, само существование данной сущности было бы лишь десятипроцентным, то есть что она была бы только на 10 % реальна.
Но даже на интуитивном уровне ясно, что такое «десятипроцентное существование» – это бессмыслица. Любая вещь, любая сущность, любое явление могут либо существовать, либо не существовать. Никакие промежуточные состояния невозможны. Возникновение не является переходом: это «точечное действие», мгновенное событие. Наука же применима лишь к переходам одних сущностей или состояний в другие.
Отсюда следует, что наука, прекрасно справляясь с объяснением возникновения – в результате того или иного процесса – множества вещей (Хонды Цивик, Эвереста, пары куриных крылышек), оказывается в принципе не способна объяснить возникновение вселенной из ничего. Причина такого возникновения может быть лишь одна-единственная: созидательная деятельность Бога-Творца.
2. Наука не может объяснить происхождение фундаментальных законов природы
Не все законы природы одинаково фундаментальны. Некоторые из них могут быть выведены из других. Например, первый закон движения Ньютона (движущийся объект продолжает двигаться с той же скоростью и в том же направлении, если на него не действует несбалансированная сила) основан на открытом Галилеем свойстве инерции – склонности материальных объектов сопротивляться изменению скорости. Действительно, мы постоянно можем наблюдать, что предметы не меняют свою скорость самопроизвольно, которая останется постоянной, если на предмет не воздействует трение или любые другие помехи.
Однако выведение одних законов из других не может продолжаться бесконечно. Должны существовать – и, согласно мнению большинства учёных, существуют – фундаментальные или основополагающие законы природы.
Важно понимать, что существование таких законов и понимание их природы не могут быть объяснены наукой, поскольку любое научное объяснение предполагает наличие более общих («ещё более фундаментальных») закономерностей. Поэтому нам остаётся одно из двух:
(1) воспринимать такие основополагающие законы лишь как некие данности: они «просто существуют», их можно использовать для научного объяснения других вещей, но сами по себе они не могут быть объяснены с научной точки зрения;
(2) дать этим законам теистическое объяснение.
Многие, включая и меня, считают первый вариант неудовлетворительным. Если нечто существует и действует – то для на является естественным попытаться это объяснить.
Может быть, фундаментальные законы природы – это случайность? Тогда мы легко можем представить себе миры, фундаментальные законы природы в которых совершенно иные. Но возникает следующий, вполне естественный, вопрос: почему же наш мир содержит именно такие фундаментальные законы?
Многие атеисты, впрочем, отвергают правомерность такой постановки вопроса. Они утверждают, что в нём изначально заложен «принцип достаточного основания», сформулированный с точки зрения человека, уже верящего в Бога: нам предлагается, отвечая на этот вопрос, либо тоже признать существование Творца, либо упереться в необъяснимость «простого существования» фундаментальных законов.
Теисты отвечают на это, указывая, что принцип достаточного основания вовсе не навязывает, не предполагает изначально существование Бога. Принцип этот известен в различных формулировках; наиболее употребительная звучит так: «Для каждого случайного существования должно иметься достаточное объяснение того, почему оно существует, а не не существует». Данный принцип совершенно рационален, и именно на нём основаны любые – включая научные – поиски объяснений, почему определенные объекты, явления, процессы существуют и почему они именно таковы. Мы постоянно и предельно эффективно используем этот принцип даже в повседневной жизни: например, когда наш автомобиль ломается – скажем, двигатель начинает работать плохо, – автомеханик предполагает, что у этой поломки существует причина, и принимается её искать.
Но как только мы хотим применить принцип достаточного основания к существованию фундаментальных законов природы (или к существованию вселенной в том состоянии, в котором она пребывает) атеисты неожиданно и нелогично вдруг ополчаются против данного принципа – лишь потому, что категорически не желают принять теистическое объяснение, на которое он указывает. Такую логическую ошибку иногда называют «принципом трамвая»: пассажир запрыгивает в трамвай и остаётся в нём до тех пор, пока его устраивает маршрут, а когда рельсы сворачивают в другую сторону, выпрыгивает наружу. Подобным образом многие люди соглашаются с рациональными и логическими принципами, используя их до тех пор, пока им не перестают нравиться выводы, следующие из этих принципов: в такой момент человек нередко «выскакивает из трамвая» – перестаёт использовать свою прежнюю систему рассуждений, неожиданно выражая своё с ней несогласие.
3. Наука не может объяснить тонкую настройку Вселенной
Что мы подразумеваем под тонкой настройкой?1 Нашей вселенной присущи различные константы. – некоторые произвольные физические величины, заданные с высокой степенью точности и остающиеся всегда неизменными. Например: гравитационная постоянная G в законе гравитационного взаимодействия, открытом Ньютоном: F = G (m1 ×m2 / r2); уровень энтропии R2 – мера рассеивания энергии при совершении работы (или растущее количество хаоса во вселенной, как её иногда определяют). Эти и другие константы не определяются законами природы: с точки зрения науки они «просто существуют», являются данностями2.
Философ Уильям Лейн Крейг определяет «тонкую настройку» физических констант следующим образом:
Под «тонкой настройкой» подразумевается, что даже небольшие отклонения от действительных значений рассматриваемых констант и величин сделали бы Вселенную непригодной для жизни; или, как минимум, диапазон допустимых для жизни значений чрезвычайно узок по сравнению с диапазоном всех предполагаемо возможных значений3.
Феномен «тонкой настройки» в принципе не может быть объяснён наукой, поскольку константы, как уже было указано, являются абсолютными данностями, ничем не объясняемыми, но при этом входящими в состав законов природы. Однако этот феномен можно вполне убедительно объяснить теистически. Ниже мы убедимся в этом.
Уильям Дембски проанализировал случаи, в которых можно сделать вывод, что какое-то явление является результатом целенаправленного действия разумного агента4. Помимо прочего, исследователь рассматривал ситуации, когда сотрудники страховых компаний, полиции и судебно-медицинской экспертизы должны определить, произошла ли смерть в результате несчастного случая (без вмешательства разумного агента) или была вызвана намеренно (сознательно причинена разумным агентом).
По мнению Дембски, чтобы обоснованно сделать вывод, что событие явилось результатом сознательного намерения, требуется наличие трёх факторов:
(1) Событие не было закономерным – оно не должно было бы произойти в результате действия какого-либо природного или социального закона (в отличие, например, от замерзания воды, которое, по законам природы, должно было произойти при определенной температуре).
(2) Невысокая вероятность данного события.
(3) Событие способно к независимой спецификации (его можно идентифицировать как особый случай, помимо того простого факта, что оно действительно произошло).
Сочетание этих трёх факторов Дембски и другие авторы назвали фильтром замысла. Данный фильтр успешно используется в различных областях науки – например, в судебной медицине. Можно ли применить его и к «тонкой настройке» Вселенной?..
Открытые, накопленные и уточнённые за последние годы научные данные привели к шокирующему открытию, сыгравшему, в частности, важную роль в обращении мыслителя-атеиста Энтони Флю к вере в Творца. Именно в свете этого открытия Флю начал задаваться вопросом: знала ли Вселенная о то, что мы, люди, возникнем внутри неё? Имеющиеся доказательства заставили его ответить на этот вопрос утвердительно5. Разумеется, Вселенная представляет собой мертвую материю и, следовательно, не может ничего знать; поэтому Флю фактически утверждает, что её Создатель, Бог знал, что мы возникнем.
И к таким мыслям пришёл не только он. Один из моих коллег по факультету, Дэвид Хорнер, доктор философии Оксфордского университета, рассказал, что однажды услышал, проходя мимо лекционного зала. Выступавший там один из самых известных в мире атеистов (не буду называть его имени) он откровенно признался, что открытие, о котором идёт речь, является важным доказательством существования Бога, и он, будучи неверующим, не знает, как реагировать на это свидетельство.
В чем же заключается открытие? Им явилось признание абсолютной уникальности «тонкой настройки»: Вселенная неимоверно точно настроена таким образом, чтобы в ней могла появиться жизнь. Было обнаружено и сведено воедино более ста независимых и неопровержимых фактов о Вселенной в форме основных констант природы (произвольных физических величин), которые, с научной точки зрения, «просто существуют», не имея дальнейшего научного объяснения: сила гравитации, заряд электрона, масса покоя протона, скорость расширения пространства в результате Большого взрыва… И что наиболее поразительно: если хотя одна из этих – более чем ста! – констант была бы немного больше или меньше, даже на миллиардную долю процента, то жизнь во Вселенной не смогла бы существовать. Мироздание представляет собой острие множества точно сбалансированных условий, делающих жизнь возможной.
- Если бы сила гравитации была хоть чуточку сильнее, все звёзды сгорали бы слишком быстро; если бы она была хоть немного слабее, все звёзды были бы слишком холодными; в обоих случаях звёзды были бы неспособны поддерживать жизнь на планетах.
- Если бы соотношение масс электрона и протона было немного больше или меньше, то химическая связь, необходимая для образования самовоспроизводящихся молекул, не могла бы возникнуть. То же самое верно и для электромагнитной силы.
- Если бы сильное ядерное взаимодействие было немного сильнее, то ядра, необходимые для жизни, были бы слишком нестабильными; а будь оно немного слабее, не образовывались бы никакие элементы, кроме водорода.
- Если бы скорость расширения Вселенной была меньше на одну стомиллиардную часть, Вселенная сжалась бы и не смогла бы формировать и поддерживать жизнь.
- Квантовые законы в точности соответствуют условиям, необходимым для предотвращения падения электронов на атомные ядра.
- Если бы Земле требовалось более двадцати четырех часов для вращения, температура на нашей планете между восходом и закатом была бы слишком высокой; а если бы вращение Земли было немного более быстрым, ветер достигал бы скоростей, опасных для любой жизни.
- Если бы уровень кислорода на нашей планете был чуть меньше, мы бы задохнулись, а будь он чуть большим, по всей Земле полыхали бы спонтанные пожары.
Можно продолжать и продолжать приводить всё новые факты. Можно понять, почему, будучи сведёнными воедино, они шокировали ученых и философов:
(1) Сбалансированность каждого из этих многочисленных факторов не является закономерным – можно с лёгкостью допустить, например, что масса протона или скорость расширения Вселенной могли иметь иные значения.
(2) Подобная сбалансированность множества факторов, никоим образом не зависящих друг от друга, является чрезвычайно маловероятным.
(3) Все эти факторы обладают независимой спецификацией (что и делает возможным существование жизни).
Ранее учёные допускали, что значения каждой из констант могли бы значительно варьироваться, не влияя на возможность существования жизни. И лишь недавно они выяснили: любые модели вселенных, в которых может существовать жизнь, обязательно содержат набор констант, которые лишь на миллиардные доли процента отличаются от существующих в нашем реальном мире, являясь уникальными. Причём выводы по каждой константе были сделаны совершенно независимо от того, что расчётным значениям соответствуют подлинные значения констант в реальной Вселенной.
4. Наука не может объяснить происхождение сознания
Особенности человеческой личности, включая сознание, создают крайне серьёзные проблемы для натурализма сциентистского толка. В то же время существование феномена сознания легко можно объяснить с теистических позиций6.
Вот что пишет по этому поводу Криспин Райт, один из ведущих защитников сциентизма:
Центральная дилемма современной метафизики состоит в том, чтобы найти место для определённых антропоцентрических феноменов – например, семантических, моральных и психологических – в мире, как его понимает современный натурализм: задача состоит в переносе понятий и категорий, последовательно использующихся физикой, на область метафизики, чтобы объяснить, что собой представляет реальный мир.
С одной стороны, если мы принимаем натуралистические концепции, то, по-видимому, либо впадаем в редукционизм (то есть в истолкование референций – например, семантических, моральных и психологических явлений – как пребывающих каким-то образом в физической сфере), либо оспариваем, что рассматриваемые дискурсы вообще отсылают нас к реальности.
С другой стороны, если мы отвергаем натурализм, то признаём этим, что в мире есть нечто большее, чем может быть постигнуто физикалистской онтологией – и, в результате, рискуем оказаться приверженными жуткой концепции сверхъестественного7.
И Райт здесь прав (хотя для нас это и каламбур, поскольку он призывает к противоположному выводу). С натуралистических, сциентистских позиций не остаётся места для «психологических явлений» – сознания, смысловых значений и т. д. Сциентист неизбежно вынужден:
(1) либо заявить, что все феномены психики (например, чувство боли) вообще не таковы, какими представляются нам самим, анализирующим свои чувства от первого лица, а являются физическими явлениями;
(2) либо вообще отрицать их реальность (заявлять, например, что сознания не существует!).
Но если мы отвергаем натурализм вместе с подразумеваемой им физикалистской онтологией (взглядом на реальность) и примем взгляд на психические феномены, основанный на здравом смысле, то «опасно» приблизимся к признанию правоты теизма.
В самом деле. Вначале либо был Логос, либо возникли частицы материи. Если начинать историю Вселенной с мёртвой бессознательной материи, можно будет проследить, как её составляющие объединялись и изменялись в соответствии со случайными столкновениями и законами природы, образуя более крупные и сложные объекты – но в конечном итоге получите лишь то, что и можете в этом случае получить: лишь группы сложнейшим образом перегруппированных частиц. Появление сознания – принципиально новой сущности – в рамках этой натуралистической теории творения означало бы возникновение чего-то из ничего. Но если начать историю мироздания с Бога (Логоса), мы обнаруживаем в начале всего фундаментальное сознание – и нам не составит труда увидеть, как Бог может наделять сознанием также различные существа по своему выбору.
Именно эту дилемму правильно описал Криспин Райт.
5. Наука не может объяснить существование моральных, рациональных и эстетических объективных законов и их внутренней ценности
Большинство людей признаёт существование объективных и истинных законов морали, рациональности и эстетики. Приведём несколько примеров.
Примеры моральных законов: «Неправильно мучить детей ради развлечения»; «Нужно стремиться к любви, доброте и избегать расистского фанатизма». Если вы нарушите один из этих законов, вы совершили что-то аморальное.
Примерами рациональных законов являются законы логики, принципы оценки доказательств в суде присяжных, утверждения типа: «Если убеждение хорошо согласуется с другими разумными убеждениями, которых вы придерживаетесь, это увеличивает его шансы быть правдивым». Если вы нарушите один из этих законов, вы сделали что-то иррациональное.
В эстетике существуют принципы объективной красоты. Например, если вы хотите, чтобы ваша картина была красивой, обратите внимание на симметрию и сочетание цветов. Если вы нарушите один из этих законов, вы сделали что-то безобразное.
Проблема сциентизма состоит в том, что наука носит описательный, а не предписывающий характер; она пытается описать то, что есть, но она не может предписать, что должно быть. Поэтому ей надлежит хранить молчание, когда речь идёт о нормативных законах и принципах. Но сциентисты это молчание постоянно нарушают – обычно отрицая как таковой нормативный характер рассматриваемых явлений. Вот, например, слова одного из современных философов науки, приверженца эволюционной биологии и атеиста Майкла Рьюза:
Мораль представляет собой биологическую адаптацию не в меньшей степени, чем функции рук, ног и зубов. Если рассматривать этику как рационально обоснованный набор объективных требований, то она иллюзорна. Я понимаю: человек, заявляющий: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя», – убеждён, что имеет в виду нечто большее, нежели он сам. Однако такое мнение на самом деле не имеет под собой никаких оснований. Мораль – это лишь помощь выживанию и воспроизводству … и любой более глубокий смысл иллюзорен8.
Точка зрения Рьюза в равной степени применима также и к рациональности, и к эстетике.
Если же существует добродетельный Бог, то моральные, рациональные и эстетические обязанности, которые Он налагает на нас, будут объективно истинными (независимо от того, что люди думают или во что верят) и реальными, независимо от того, верите в них или нет.
Неоспоримым фактом является то, что помимо правил и принципов в мире есть и хорошие, ценные по своей сути характеристики дел и вещей. Человеческая личность обладает глубокой внутренней ценностью, причём все люди имеют равную внутреннюю ценность и равные права именно как человеческие личности.
Определённые состояния разума по своей природе рациональны, и к этим состояниям следует стремиться, если человек стремится рационально мыслить. Например, ум способен проанализировать следующее логическое рассуждение:
(А) Если сознание нередуцируемо и реально, то физикализм ложен.
(В) Сознание нередуцируемо и реально.
(С) Следовательно, физикализм ложен.
Или другой пример – вывод, сделанный судьёй: «Прямые доказательства, косвенные улики и свидетельские показания безоговорочно указывают на вину обвиняемого, и поэтому я признаю его виновным». Такие выводы по своей природе разумны и рациональны. Точно так же некоторые вещи являются по своей природе красивыми – например, например, закат над океаном или вид заснеженных гор.
И если Вселенная началась с Того, Кто Сам по Себе является носителем внутреннего добра, разумности и красоты – то нет никаких проблем с объяснением, как эти представления могут существовать и откуда они пришли.
Если же верен сциентизм, то вся история Вселенной – это история о том, как физические сущности («струны», волны, частицы и т. д.), обладающие строго физическими свойствами (массой, зарядом, размером, местоположением и т. д.) комбинируются согласно законам природы, формируя в результате другие строго физические сущности со строго физическими свойствами. В такой модели нет места для возникновения внутренних, нормативных ценностных свойств – моральных, рациональных или эстетических; более того, в них даже нет никакой необходимости.
Ныне покойный философ-атеист Дж. Л. Маки признавал, что существование объективных моральных принципов опровергало бы натурализм и сциентизм, свидетельствуя в пользу теизма:
Моральные принципы представляют собой настолько странный кластер свойств и отношений, что они вряд ли могли возникнуть в результате естественного развития событий, без всемогущего бога, который бы их создал9.
Да, истинно, и аминь!
Заключение
Итак, мы рассмотрели пять различных вопросов, на которые наука в принципе не способна дать ответы – но которые могут быть объяснены с позиций теистического мировоззрения. Это – серьёзные аргументы в пользу теизма и убедительные доказательства неправоты сциентизма.
Примечания
1. Материалы по данному вопросу почерпнуты мной из замечательной книги: William Lane Craig, Reasonable Faith: Christian Truth and Apologetics, 3rd ed. (Wheaton, IL: Crossway, 2008), 158–159.
2. Перечень и подробное описание физических констант и их величин см.: The Creator and the Cosmos, 3rd rev. and expanded ed. (Colorado Springs: NavPress, 2001), 145–167.
3. Craig, Reasonable Faith, 158.
4. William Dembski, Intelligent Design (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1999).
5. Antony Flew, There Is a God: How the World’s Most Notorious Atheist Changed His Mind (New York: HarperCollins, 2007), chapter 6.
6. См.: J. P. Moreland, The Recalcitrant Imago Dei (London: SCM Press, 2009).
7. Crispin Wright, “The Conceivability of Naturalism,” in Conceivability and Possibility, ed. Tamar Szabo Gendler and John Hawthorne (Oxford: Clarendon, 2002), 401. Разрывы между абзацами сделаны мной.
8. Michael Ruse, “Evolutionary Theory and Christian Ethics,” in The Darwinian Paradigm (London: Routledge, 1989), 262–269.
9. J. L. Mackie, The Miracle of Theism (Oxford: Clarendon, 1982), 115. Ср.: J. P. Moreland and Kai Nielsen, Does God Exist? (Buffalo, NY: Prometheus, 1993), chapters 8–10.
Данная статья адаптирована из книги Дж. П. Морленда «Сциентизм и секуляризм: учимся реагировать на опасную идеологию» (Scientism and Secularism: Learning to Respond to a Dangerous Ideology).
Дж. П. Морленд scienceandapologetics.com
INVICTORY теперь на Youtube, Instagram и Telegram!
Хотите получать самые интересные материалы прямо на свои любимые платформы? Мы готовим для вас обзоры новых фильмов, интересные подкасты, срочные новости и полезные советы от служителей на популярных платформах. Многие материалы выходят только на них, не попадая даже на сайт! Подписывайтесь и получайте самую интересную информацию первыми!